|
|
|
Н.Н. Александров
В работе, с широких общенаучных позиций, рассматривается совокупность основных методов науки. На основе исторического анализа представляется авторская методология системного, генетического и кинетического подходов к исследованию – метод общей системокинетики, что означает единство статического и динамического понимания системы.
Первая книга посвящена системной статике. Следующая – динамике систем. СОДЕРЖАНИЕ Часть I. О МЕТОДЕ
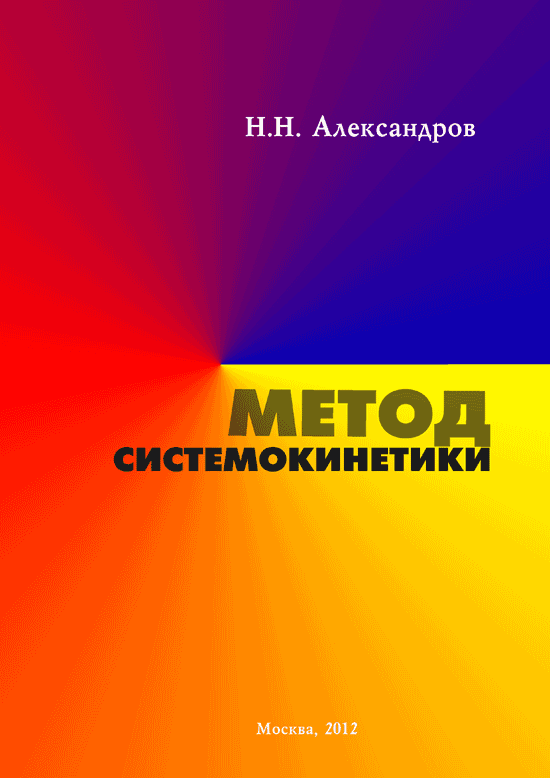
1.1. О СПОСОБЕ МОЕЙ РАБОТЫ И ОСОБЕННОСТЯХ МОЕГО МЫШЛЕНИЯ
1.2. О МНОЖЕСТВЕ ОНТОЛОГИЙ
1.3. ПАРАДИГМА – МЕТАПАРАДИГМА – МЕНТАЛЬНАЯ КАРТИНА
1.4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ
1. 5. ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ ХХ ВЕКА. ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ – К ИДЕЯМ СИСТЕМНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.6. ИТОГО: КЛАССИЧЕСКАЯ И НЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА Часть II. О МЕТОДЕ И ИНСТРУМЕНТАХ
2.1. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ОТОБРАЖЕНИЙ ЕДИНОГО И КОНФИГУРАТОР
2.2. В ПОИСКАХ ЯЗЫКА
2.3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ В ЧЕТЫРЕХ ЯЗЫКАХ
2.4.СИСТЕМНОСТЬ И ЧИСЛО
2.5. ПРИЕМ СУПЕРПОЗИЦИОННОГО ЭКРАНА ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Часть I. О МЕТОДЕ 1.1. О СПОСОБЕ МОЕЙ РАБОТЫ И ОСОБЕННОСТЯХ МОЕГО МЫШЛЕНИЯ
Мое мировоззрение целостно. При всем тяготении к архаической простоте, это очень развитая целостность. Эту сложную целостность я осваиваю по частям, заходя всегда с разных сторон. И каждый такой заход тоже отличается достаточным разнообразием. Поэтому я могу переписывать любой свой текст до бесконечности, отчего всегда побаиваюсь бальзаковской ситуации “Неведомого шедевра”.
Почему-то я мыслю целостно и непрерывно, но пишу иначе: дискретно. Мои критики вообще говорят, что я пишу тезисно. 500 страниц тезисов в каждой книге – это нечто. Но доля правды в этом утверждении есть.
Я пишу тезисно, поскольку считаю: остальное и так понятно и желающий сам продолжит. А непонятно, нечего и читать. Но всегда есть надежда, что появится желающий понять.
Пишу я, скажем так, модулями, в какой-то мере самозавершенными блоками или композициями. Теперь блоков-композиций этих стало так много, что я вспоминаю о ранее сделанном с некоторым трудом. Итог удивляет меня самого: свои ранние книги мне просто хочется скомпоновать заново из более отшлифованных поздних блоков-модулей. Наверное, это будут уже другие книги, но к тому все идет. Мысли эти возникают не потому, что я стремлюсь еще чего-то понять, а поскольку уже понятое приходится целенаправленно транслировать, и при этом возникает желание все перекомпоновать. Происходит этакая естественная “трамбовка” материала с введением в него нового и выведением устаревшего.
Недавно мне стало понятно, что я пишу гипертекст: он сам собой превращается в систему текстов, составляя и единство, и множество текстов. И я осознал, что через серию книг вообще-то пишу что-то вроде своей энциклопедии, выполняю работу нового Дидро. Ввожу в мир некое новое мировоззрение, которое уже живет во мне. Или это я давно им живу и весьма успешно, пока без сбоев, развиваю из него свой инструментарий. Поэтому я очень люблю читать новые лекционные курсы из незнакомых областей, весьма далеких от всего, что делал раньше. В этом случае нужно сделать сборку содержания и тем самым проверяется, насколько универсален мой набор инструментов.
Трудно объяснить, как в гипертексте одно сцепляется с другим. В том методе, который я использую, все сцепляется со всем и это, если хотите, особый тип дизайна. В этом есть и свои минусы: одно без другого иногда трудно понять. И тот принцип полиэкранности, о котором у нас пойдет речь, имеет к этому непосредственное отношение.
Что касается книг, тут все иначе. В них “блоки” сцепляет очередная тема; по отношению к ней и создается содержательный конструкт и выразительная композиция модулей. Здесь срабатывает традиционная логика изложения, подразумевающая развертывание и сшивку материала в композицию. Поэтому в книгах изложение искусственно-непрерывное, а качество понимания – накаливаемое.
При этом я осознаю, что не все из набора важных для меня блоков нужно моему читателю в его интересе к теме. Потом может понадобится и другое, но в акте чтения читателя интересует собственно эта тема. И интересует почему-то, это его дело, почему. А мне надо постараться дать ему именно это.
Мне всегда ужасно хочется написать 100-120 страниц по одной теме, но до сих пор редко получалось. И виной тому сцепления блоков, которое я раньше не различал. Теперь различил. Они непрерывно требуют от меня восстановления большой целостности и не принимают искусственной отдельности своего существования. Война общего и единичного – вот суть гипертекстов.
Читая других, я вижу у них ту же проблему. Выжимку в тезисы или статью сделать легче всего. А вот при развертке в лекциях это все начинает такую внутреннюю перекличку, что иногда невозможно удерживать.
Гипертекст бесконечен, как сама жизнь. А для современного человека нужна краткость и завершенность. И поэтому я недавно твердо решил попробовать работать завершенными разделами и обозначать их в этом качестве. В моем гипертексте многое из написанного можно понять из контекста. Хотя, может быть, я и ошибаюсь: это я так привык думать, т.к. сам так работаю.
Поскольку я много чего написал и понял про композицию, я знаю, что противоречу основному закону – закону образной целостности. При работе свободно компонуемыми блоками текст лишается художественного единства – в традиционном понимании. Но в новой реальности “клипового сознания” и композиционные законы должны были измениться. Текст пишется не для “ценителей эстетического” из прошлого, а для использования в практике, в настоящем. Деятельность – это его конечное назначение.
Когда я читаю лекции, все происходит легко и здорово. Я обожаю это делать, поскольку с легким удивлением слушаю себя со стороны. Сборка по конкретному поводу происходит легко и пластично, иногда небольшие отличия аудитории делают лекцию на одну и ту же тему абсолютно непохожей на аналогичные лекции в прошлом. И я обычно добиваюсь такой композиции, при которой слушатели уходят с чувством подъема и восторга – с необходимым и возможным “катарсисом”. Я это осознаю, когда они уходя благодарят. А бывает это не всегда. Концепция
Мы употребляем термин “концепция” (от лат. conceptio – понимание, система), в трех смыслах: а) как определенный способ трактовки (ракурс понимания); б) как основную точку зрения (рамку); в) как руководящую идею, ведущий замысел, конструктивный принцип деятельности (норму). Точка зрения в мышлении и норма в деятельности разнесены, но взаимосвязаны; а трактовка – это уже особенность общения, трансляции и коммуникации.
По сути, за всеми этими словами всегда скрывается некое саморазворачивающееся ядро. Поскольку это замысел, в управленческом смысле мы имеем в “концепции” предельно плотно упакованное в знаки описание задуманного. Детализируя концепцию, мы получаем ее развертку в текст или в деятельность. Таким образом, концепция обладает свойством разворачиваться, запускает этот особый процесс. Кроме того, она имеет свойство управлять деятельностью, поскольку содержит в себе наши цели.
Поскольку мы далее много будем рассуждать о целях, надо как-то со своими определиться. Вот поэтому я себя и спрашиваю изначально: какая цель движет мною, когда я применяю и разворачиваю концепцию ментосферы? Ответ во многом и для меня неожиданный: ментосфера хочет быть выражена, опознана нами. А я – всего лишь ее инструмент. И, наверное, не единственный.
“Ментосферизм” – это новая онтология, она вызывает у меня интерес и почему-то совпадает со всем, что я делал раньше. Чушь какая-то получается: хочет ментосфера, цели ее, а пишу я и интересно мне. Но это, увы, правда. И никак иначе это свое желание создавать тексты я объяснить себе не могу. Поскольку, прикасаясь ко всему другому, чувствую холод, а к этому – тепло. Это означает “предназначение”.
Концепция содержит цель и тем держит целое. Целое неизбежно разворачивается, поскольку единое всегда предполагает существование во множественном. Из одних и тех же целей, но по-разному упорядоченных, образуются разные итоговые вектора целей. Поэтому то, что получится у меня и у других – это будет разное. Понимание цели самой ментосферы возникнет в совокупности всех наших текстов.
Для движения к цели, надо определить, где мы находимся и что мы по ней имеем сейчас. Этот традиционный научный шаг. Проблемы ментосферы до этого не существовало. А то, что касается ее аспектов и подходов, я когда-то описал их по мере сил – их немеряно. С тех пор ничего кардинально не изменилось.
По какой дороге идти в выражении? Мы выбрали гипертекст, где каждый завершенный кусок текста имеет свое локальное целое в большом целом. Поэтому в конце есть такая задача, как взаимное согласование и увязка частей в общее. В жизни процесс формирование концепции – процесс циклический и многошаговый. В текстах все должно быть иначе.
1.2. О МНОЖЕСТВЕ ОНТОЛОГИЙ В поисках новой онтологии
Как-то утром я проснулся, и обнаружил, что живу в мире совершенно другом, чем вчера. Я так долго пробовал войти в новую онтологию, что в результате однажды оказался в ней. При этом переходе человек ничего не ощущает, как и самого перехода. Чтобы понять это, надо выйти и постоять над ситуацией. А попробуйте-ка. Да потом еще возвращаться.
Очевидно, количество моих усилий перешло в новое качество понимания мира. И теперь я буду пробовать говорить оттуда, чтобы донести – что именно я понял и как это произошло. Поскольку ничего важнее этого для меня теперь нет. А для вас, надеюсь, это будет интересно, как интересны приключения в чужом мире.
Пробовать я буду потому, что надо же еще научиться жить в этой новой онтологии. И потому я имею право на ошибки и заблуждения. Это причина тех кажущихся непоследовательностей и даже кружений в тексте, который вы читаете.
Мы пишем этот текст, все еще находясь в поисках новой онтологии или по крайней мере – с желанием адекватно выразить то содержание, с которым по случаю удалось соприкоснуться. Почему нас не устраивает натуральная онтология классической науки Нового времени, и системно-деятельностная онтология ХХ века? Они ачеловечны. А я человек и мне хочется поискать в этом мире нечто для себя. И в этом стремлении трудно оставаться объективным, хотя мы будем всячески стараться.
Я пишу в попытке обозначить ясно целое под названием “ментосфера”. И связанную с этим картину мира, то бишь особую онтологию.
Начнем с ключевого для нас вопроса о “картинке” или “картине мира”.
Считается, что термин “картина мира” достаточно молод. Он был введен Л. Витгенштейном в «Логико-философском трактате», хотя в гуманитарной сфере ведет свое происхождение от работ Лео Вайсгербера примерно того же времени. Не знаю, как в момент становления, но сегодня этот термин неимоверно размыт, поскольку он “размазался” по множеству наук и вошел в ряд “бродячих терминов” в науке и около нее. Его постигла та же участь, что и “менталитет”, “пассионарность”, “парадигма” и многие другие популярные слова ХХ века.
Рассматривать картины мира я собираюсь через свою историю: через картинки мира во мне. Хотя бы потому, что у меня в библиотеке набралось большое количество трактовок “картин мира”. Я уже не выражаю желания слить их в нечто единое и редуцировать до посинения, как того хотелось раньше: я не веря в необходимость этой работы. А делать с ними что-то нужно – и нужно мне, исходя из моих целей. Вот я и рассматриваю эту тему как набор “картинок” моего собственного пути познания. Такая сшивка истории ничем не хуже любой другой, особенно если речь идет о рассказе.
Однажды, лет эдак в 16, я спросил себя – а частью чего я, собственно, являюсь? И какой именно частью? Чтобы ответить на такой вопрос через сорок лет, мне и понадобилось войти в новую онтологию. Это был длинный путь “прохождения сквозь другое” и “опираясь на чужое”, а потом построения, построения и еще раз построения и отбрасывания гипотез и конструктов. И суть не том, что это поучительный путь, суть в сумме, из которой уже ничего просто так не выбрасывается. Я понимаю, что это мои “подпорки мысли”, но тешу себя надеждой, что они могут пригодиться и другим путешественникам по неизведанному.
Механическая и машинная картины мира
Как и все мы в середине ХХ века в СССР, я жил и радовался, ощущая себя частью мудрой и прекрасной Природы. Я и сейчас многое бы отдал, чтобы вернуть это детско-юношеское мировосприятие. Но это уже невозможно, поскольку оно не принадлежит мне и его сияющая гармоническая окраска иллюзорна, как картинки из моей “Родной речи”.
Часы не один век завораживают людей. У меня они вызывают сложнейшие чувства и поток мыслей с того момента, когда я разобрал свой первый будильник. Я увидел чудо стройной сложности и испытал величайший детский восторг. Потом я прочел, что то же самое было с юным Ньютоном, который строил модели часов и мельниц. И не удивительно, что целый этап истории науки был прожит на этом поклонении Мировым Часам. Но такая Природа, рассмотренная как механизм, столь интересная когда-то своей утонченной и архаичной простотой, с годами стала восприниматься как данность. И “механическая картина мира”, как считается, ушла в прошлое. Хотя на самом деле она жива и поныне, как и все картины мира: речь может идти только об актуальности ее в обществе, а именно – доминировании в менталитете.
Мир как идущие Часы Бога – метафора этой зримой картины.
Те, кто считают ее примитивной, сильно ошибаются. Ведь по сути, здесь мир предстает как техническое устройство невероятной степени сложности. И это абсолютно другое воззрение, чем древнегреческий философский “натурализм”. Никак не могу понять, почему их смешивают и даже пытаются вывести одно из другого. Но сейчас мне важнее другое: у этой картины мира есть как бы “продолжение в ином”.
Вот что странно: механизм и Мир как Механизм – это одно. А машина и Мир как Машина – уже совсем другое. И третье состоит в том, что машина и механизм входят частями в некое единое целое. Хочется понять, какое именно целое. О том, что это целое есть, я помню из опыта учебы: нам в авиационном институте читали “теорию машин и механизмов” – ТММ (и студенты расшифровывали эту аббреватуру с жестоким юмором: “Там Моя Могила”).
Машина много чего предполагает, и мы будем это обсуждать. Вне машины мы можем предположить “проектировщика” с его неизвестными нам целями. Второе – это состав и особое устройство, законы функционирования, устойчивые рабочие циклы частей этой машины и т.д. Наука принципиально занимается только вторым вопросом, а вопросом о причине или проектировщике вроде как никто больше не занимается. Раньше это было занятием философов, но в последние века и они хитроумно обходят эти вопросы как слишком скользкие.
При том, что явно различимы ранняя механическая и более поздняя машинная картины мира, они в определенном смысле есть целое. Понять и описать механизм мира и построить машину – это разные стороны одного акта. В первом случае я наблюдаю мир и оперирую с ним в мысли, а во втором я примеряю на себя мундир инженера, создателя машин, и эти самые знания служат мне иначе. И в этом смысле проектировщик непременно примеряет на себя роль Бога, поскольку проектирование машин происходит на самом деле из ничего и на познание только косвенно опирается. И есть ли между исследователем и изобретателем связь в истории – это еще вопрос. Хотя, что характерно, все евроамериканские ученые в романах и фильмах только и делают, что изобретают нечто невообразимое: я помню, как много раз перечитывал в юности “Человека-невидимку” и “Машину времени”. Но теперь я понимаю, что все научные и технические фантасты – Жюль Верн, Уэллс, Беляев и т.д. – работники идеологического фронта. Они утверждали своим искусством ту картинку мира, которую требовал доминирующий тип менталитета. Легенда про Архимеда тоже подтверждает эту жесткую новоевропейскую взаимосвязанность науки и техники. Поэтому она и вошла в учебники – как притча идеологического назначения.
На самом же деле множество самых плодотворных идей может невостребованно пролежать веками и не найти подобного “применения”. А работа Герона Александрийского показывает, что создание машин могло начаться в любой точке истории, безотносительно к науке. Это особый род свободной игры, которую запрягли как лошадь в повозку только в эпоху капитализма, а потом и социализма. Жутковатое противоречие между принципиальной свободой игры и несвободой цивилизации отражено у А.И. Солженицына “В круге первом”.
Проектный прорыв инженерии ХIХ-ХХ веков дал возможность оформиться современному всепоглощающему технократизму.
В ХХ веке уже можно было наблюдать, как машинная идеология применяется по отношению к природе, людям и к обществу. Причем, настолько успешно, что технократы почти победили в развитых странах на этих трех фронтах. Их победа вполне может стать пирровой, поскольку человек – не только машина. И общество – тоже.
Технократизм – эта только “рамка” особого типа онтологии, это особый взгляд на мир как на машину. Он вроде бы дает власть имущим рычаги управляемости обществом и человеком, но при этом постепенно лишает людей и общество жизненной энергии – это почувствовал еще Кафка, а дальше зазвучали колокола множества ученых начала ХХ века, говорящих о массовом человеке и дегуманизации культуры. Прогноз тоже был дан историей: заключенные концлагерей, прошедшие полное “машинное” перевоспитание, умирали от потери интереса к жизни. Это очень важное предостережение, которого технократы упорно не слышат, хотя они вроде как живые люди. Технократы и с этим хотят справиться машинно: путем подмены всего ранее бывшего “естественного” на “искусственное”. Абсурдно звучит: искусственный интерес к жизни; но это чистая правда современного манипулятивного общества.
Если мы предполагаем, что Мир как Машина – это одна сторона медали, то где создавший ее Креатор-Проектировщик, невидимая сторона той же картины мира? Ведь орел и решка – все равно одна монета.
Органическая картина мира
Вслед за “механической картиной мира” в науке Нового времени открылась не менее волнующая возможность трактовки Природы как живого существа, как организма, а позже – как популяции (особого невидимого организма). Обозримый мир галактик, мир живого и даже мир людей как бы убеждают в этой возможности своими фрагментами, а остальное – экстраполяция. Органический (“организменный” или “организмический”) подход занимал и науку в ее истории, и меня в моей истории познания, довольно долго. Что касается науки, в ней этот подход все еще живет и плодоносит, но не доминирует во всей своей полноте. И в нем, кстати, то и дело возникает идея Креатора, породившего мир-организм, то в личной, то в безличной форме.
Предшествующая абиотическая картина мира наследуется в картине мира живого. Не так давно я понял, что организм и популяция могут трактоваться из физико-химической онтологии. Организм и популяция это и вещество, и поле (веполь, как принято в ТРИЗ). И этот тип аналогии способен кое-что объяснить в такой области как биосоциальное единство.
Предел возможностей есть и у этой картины мира. Но если я правильно понимаю, науки и философии на основе этой парадигмы еще нет. Речь не о биологии и биосоциологии, а об онтологии Мира-организма. Есть и были попытки ее создания, и мы все знаем об иерархии систем: биосфера, виды, особи. Но все пока осталось на уровне фрагментов универсума (Гея-Земля Лавлока как живой организм и т.п.).
И, следовательно, мы этими идеями, самой постановкой вопроса, можем открыть новый парадигмальный цикл.
Знающий читатель мне по этому вопросу много чего может предъявить из истории. Но прошу отметить в протоколе: я о другом.
Я исхожу из личной истории познания и припоминаю ее яркие этапы – мои картинки мира.
Первое, что я понял в рамках органического подхода, – я являюсь частью гигантского существа. Образование убеждало меня, что это существо – человечество. Хотя на самом деле это может быть, и нечто большее, или вообще другое.
Про Человечество и культ Великого Существа писал О. Конт. Про нечто большее – русские космисты (куда я отношу не только философов) и т.д. Но для меня важно, что я когда-то понял это сам, и только потом прочитал о подобных идеях у других. Я понял это для себя довольно поздно на основе увлечения научной фантастикой. А в науке, если говорить о ее актуальной жизни в обществе, все должно приходить вовремя или уж лучше – не приходить вовсе. При этом вспоминается А. Эйнштейн, который признавал, что он задержался в развитии и потому стал осмыслять очевидные для всех вещи в довольно позднем возрасте.
Так получилось, что я начал размышлять над темой “организма и популяции” тогда, когда для всех моих сверстников это стало трюизмом. Все про это давно узнали и успешно забыли еще в ранней институтской юности. А я только начал размышлять – после пятидесяти.
Но знать – это одно, а понимать – другое. Я понял, что в нашем знании о “популяции” есть некая прореха. Чтобы предположить, почему популятивные общности удерживаются как целое, мало констатации (так есть), нужна гипотеза.
В связи с этим я понял, что у Человечества есть две особенности. Во-первых, человечество в определенном отношении бесплотно. Точнее, “актуальная часть” его плоти живет для нас в настоящем; а на самом-то деле его плоть есть и в прошлом, и в будущем (по отношению к нам, короткоживущим клеткам этого суперорганизма организма).
Во-вторых, Человечество для нас еще не родилось, хотя его историю мы изучали в школах и институтах.
Из этих двух особенностей мне стала понятна идея воскрешения всех у Н. Федорова. А раньше я не понимал этой идеи, она казалась мне вычурной выдумкой. На самом деле Федоров говорит о моменте, когда временные масштабы человека и человечества синхронизируются – и тогда “воскреснут все”. Удивительно напоминает сцену Второго Пришествия.
Почти бесплотность человечества делает до некоторой степени бессмысленным применение “органического подхода” по отношению к нему. Считать человечеством популяцию “хомо сапиенс” – явно недостаточное допущение. Человечество есть нечто большее и вообще – иное, чем органическая популяция. А дальше зияет пустота: мощность органической парадигмы, в отличие от имеющей продолжение механической, на этом как бы кончается. И пустоту эту не заполняет ни психология, ни социология, хотя они на это некогда претендовали. Перед нами зияют подступы к чему-то большему, но нам пока “нечем взять” эту высоту.
Я хочу зафиксировать, что если у механической картины мира есть качественно иное продолжение в картине “мир как машина”, то у органической картины мира такого продолжения пока нет, нет как онтологии. Поскольку и сама органическая картина мира пока “недоразвитая”. Если бы она была достаточно развита, мы бы имели другую технику. И металлы не отливали бы, а выращивали.
Вопрос, который хочется поставить: а что иное, кроме идей организма и машины мы сегодня имеем? Является ли общество продолжением, более развитым и сложным организмом? Можно ли свести общество к идее “популя”, как это иногда делают. Какая здесь новая картина мира, и новая ли она?
Мы ничего не знаем ни про само общество, ни про его происхождение и разворачивание, чтобы ответить на эти вопросы с уверенностью. А неуверено хочется сказать на это, как обычно отвечают аспиранты: но есть же “история” общества, ее преподают. Это точно!
Вот к истории мы далее и обратимся.
Историю чего мы изучаем?
Вопрос, вынесенный в заглавие, я всегда задаю историкам. “Историки” как особый класс людей делятся по преимуществу на преподавателей и исследователей. Про педагогов я промолчу: их дело транслировать, и не их дело, что транслировать. Остаются исследователи.
Они ненадолго столбенеют от этого вопроса, после чего либо посылают подальше, либо начинают сыпать чужими определениями. Эта реакция меня всегда удивляла: она является признаком того, что этот вопрос у них (в науке истории) или задавался очень давно и в совершенно ином состоянии их науки, или вообще не имеет к этой науке отношения.
Для историков мой дурацкий вопрос всегда был “самоочевиден”, поэтому с ответом у них почему-то всегда возникали проблемы. Я подозреваю, что историки этого ответа просто не имеют. И я так думаю – не их это дело.
В Новом времени было понятно, что объект науки формируется уровнем выше, в философии. Поэтому образованные историки отсылают к философии истории. О ней мы когда-то писали, но как ни странно, в ней тоже нет ответа на интересующий нас вопрос. Философия истории может поведать нам, какие варианты истории возможны, исходя из разных онтологий или разных концепций разных философов. Но “истории чего?”, этот изучает другой раздел философии. Как это странно, однако.
Когда я преподавал философию истории, я усвоил, что на самом деле историки к философии истории не имеют ни малейшего отношения и даже презирают ее элитарные наклонности как научное барство. “Трясти надо”, а не концепты строить – вот лозунг классического историка-исследователя. Подобных историков француз М. Блок точно назвал “сундуками для фактов”.
Таких настырных, как я, историки отсылают к социальной философии; что звучит как “пошел ты к социологам”.
Но я сам социальный философ – книжку про это написал, толстую, две диссертации написал. И потому говорю честно, я не знаю окончательного ответа на вопрос “историю чего мы изучаем?” Социальная философия как целое не содержит единого ответа: ее объект каждый философ очерчивает, как хочет. Представляете, каково студентам? И еще эта множественность в постмодерне сама по себе становится самоценностью. Поэтому ситуация следующая: вроде бы слова есть, а целого нет. Есть много-много трактовок. А у меня исконно русское желание видеть целое, хотя я сознаю всю его архаичность.
Теперь о методологии этого дела.
Мы уже упоминали о парадоксе науки ХХ века под названием “полиэкранность”. Множество трактовок имеют право на существование и более того, они ценны своей уникальностью, как ценны любые проявления культуры. Но дальше мне надо принимать одну из онтологий: либо это будет монизм натуральный, либо деятельностный. Работая с натуральным монизмом, я использую его “системный подход”, подход, приводящий меня к целому под названием “система”. Работа с деятельностным подходом требует от меня постановки цели, и это есть кристаллизатор иного типа монизма: концептуальная сборка происходит в этом варианте вокруг цели и по поводу цели. Полиэкранная множественность точек зрения теперь выступает в качестве моего ресурса, из которого я собираю свое понятие-конфигуратор (в ядре которого маячит мощный магнит цели).
Что меня искренне удивляет, так это совершенное нежелание историков построить простейшую системную модель общества и поработать в ней с помощью своих процессуальных инструментов. Со стороны социологов это некогда проделал П.А. Сорокин, за что честь ему и хвала. Но у Сорокина есть единственный недостаток: его циклическая теория помещена в одном системном уровне (плюс ее раскрытие в подсистемах уже без привлечения цикличности). По крайней мере, циклы у него – только системные. Отсюда ряд парадоксов и ложных проблем, с которыми постоянно сталкиваются историки.
Характерный пример ложной проблемы такого рода есть у Тойнби (Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М., 1991.).
Его “попытка применить понятие эволюции к человеческой истории” не удалась, да и не могла удастся. Поскольку берет он не системный или надсистемный уровень, а подсистемы – цивилизации. И рассматривает, как они “эволюционируют”, не задаваясь при этом вопросом, а применимо ли на этом уровне такое понятие, как эволюция. И там действительно “представители одного и того же вида обществ, оказавшись в одинаковых условиях, совершенно по-разному реагируют на испытания – так называемый вызов истории”. Доказательству этой истины он посвятил 12 толстых томов.
Я так думаю, что Тойнби попал в ловушку идеологии позитивизма. На нижнем уровне есть что изучать, что руками пощупать, факты – вся археология его обслуживает. А верхние уровни – поганая метафизика и спекуляции; заниматься этим ученому-историку в его время позитивной науки было просто неприлично.
А ведь здесь разобраться можно достаточно просто. И аналогом служит биогенетика (или техногенетика). Это все равно, что взять кучу особей (или видов) и утверждать, что между ними нет ничего эволюционного общего, каждый приспосабливается к вызовам среды сам по себе, создавая уникальную организованность и превращая функции в морфологию. Между тем закономерность эволюции, ее программа, вполне могут находиться уровнями выше. Надо выйти туда и оттуда смотреть на эту конкретику этой суеты отдельностей. Когда мы соединим все цивилизации как разновидности морфологии (организованности материала), становится видна мера целого – сценарий истории.
Тойнби говорит о морфологическом разнообразии, кто ж против. Но это разнообразие вполне накрывается единой ментальной шапкой. И она имеет ряд уровней вверх. Если рассматривать ее, эту шапку, то и программу истории можно увидеть. И даже до новой онтологии можно дойти.
За исключением разве что Н. Конрада и Б. Поршнева, у большинства историков ХХ века предмет истории либо вообще не рассматривается, либо переводится в разряд логических дискуссий. Поэтому историки выкручиваются, как, впрочем, и все предметники вообще: например, нет ничего сложнее для языковедов, чем ответ на вопрос “что такое лингвистика и в чем ее предмет”? И потому историков ругать за отсутствие метапредставления истории также не следует.
Иногда мне кажется, что историки и социологи заняты тем, что попеременно дают друг другу работу.
Любимая модель социологии – иерархическая. С ее помощью обществоведы направляют нас от человека, – зримого и осязаемого, – ко все более незримым и неосязаемым группам разных размеров и устойчивости, к совершенно бесплотным сообществам и обществам и уже как предел – к совершенно абстрактному Человечеству. На данной модельной основе у историков и появилось много-много промежуточных историй – этносов, народов, государств, стран и т.п. Но не появилось ни одной обобщающей истории человечества, хотя эволюционисты конца XIX века всячески за нее ратовали и много чего замечательного по данному поводу написали.
Это обидно. Это все равно, что вам расскажут об истории возникновения каких-то отдельных клеток и органов, из которых вы состоите, а вы-то хотите знать историю себя как целого, себя как неповторимой личности. А вам говорят – нет, этого как раз не можем. Очень похоже на нашу медицину, где специалисты каждый лечит свой орган, а за человека в целом никто не отвечает. Как у Райкина – к пуговицам претензии есть?
История человечества, вы когда-нибудь слышали о такой науке в ХХ веке? Максимум что есть – это “всеобщая история”, где на поверку – всегда одни части чего-то очень большого. Но “всеобщее” в любом варианте не есть сумма частей, как и человечество не есть сумма людей или обществ. И потом количество прорех в этой истории несопоставимо с тем, что мы про нее знаем. Наше незнание превышает 96 %. Тот же Тойнби откровенно говорит, что западные историки намеренно игнорируют историю Востока.
Вот пример: наши магазины наконец-то заполнены книгами Л.Н. Гумилева, представляющего миру совершенно неизвестную западному и советскому миру историю ЛесоСтепи и серединной Азии – не менее, и даже более насыщенную, чем история западная и прозападная, в том числе и наша. А что мы тогда учили в школе, если в истории возможны такие вот гигантские дыры? Ясное дело: политически корректный миф. И все другие в мире тоже его учат, каждый свой. Например, американские школьники ничего не слышали о нашем участии во Второй мировой войне.
И здесь я убеждаюсь, что история всегда обслуживает политику и работает на идеологию. Оттого-то Аристотель и относил историю к роду литературы. Но это как раз тот деятельностный ракурс, о котором мы говорили: множественность точек зрения служит материалом для сборки под определенную цель. Это хорошо видно уже у Геродота: собирая противоречащие друг другу воспоминания, к тому же с огромными прорехами, он пишет идеологическую работу, объединяющую греков и затем античный мир в особую общность. Его история имела долговременное политическое действие и не потеряла его доныне.
Конечно, к ученым-историкам это, собственно, имеет косвенное отношение. Не они ответственны за использование истории в качестве идеологии. К тому же им немало крови в последние годы попортил продолжатель линии Н. Морозова – А.Т. Фоменко и компания (Фоменко А.Т. Глобальная хронология. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 408 с.). Это был если и не удар по основаниям европейского историзма, то весьма раздражающий фактор. Поэтому историки так превозносят того современного автора, который смог “дать отпор”, то бишь – вернуть статус кво этой ученой братии.
* * *
Возникает впечатление, что в этом вопросе мы копаем не с того конца. Чтобы восстановить целое, нужно именно это и делать. По крайней мере, задавать вопросы отсюда и пробовать на них отвечать.
Чтобы говорить о конечном этапе истории человеческих сообществ, нужны гипотезы, а не трюизм Фукуямы про конец истории. Несколько различаются, но едины по своей основе гипотезы космизма и глобализма. Их единство состоят в том, что сегодня мы стоим на пороге планетарного объединения этих социальных образований (и составляющих их людей) во что-то единое, в наш Солярис. Это целое более высокого, надсистемного (по отношению к обществам), уровня. Может быть, это и будет Человечество в его конечном виде. Или – в начальном виде, смотря откуда смотреть.
Суть вопроса: а что есть в данном случае Целое? Суперпопуль. Когда я обратился к литературе, то оказалось, что эта тема интересовала ученых в последний раз в середине ХХ века. Тогда последний раз обсуждалось “человечество” как понятие. Этот отложенный разговор нужно возвратить.
Биолог вам тут же подскажет: нам проще, наша “Биосфера” уже есть, она родилась. А у вас сложность в том, что “Человечества” пока нет. Оно рождается и этот процесс еще будет длиться. Примерно так, как это описывается в “Феномене человека” П. Тейяра де Шардена. И это почему-то всех устраивает. Кроме меня.
Да все так: именно мы, сегодняшние люди Земли, присутствуем при родах Человечества. Интересно, присутствовал ли какой-нибудь организм при родах биосферы?
Но мне так кажется, что и биосфера, и человечество – не более чем понятия, или “надсистемные формы мыслимости”. А “становится” человечество или уже стало – это вопрос другой, хотя методологически очень важный.
* * *
Один из способов написания настоящей истории нашего суперпопуля-человечества – попробовать писать ее из будущего, когда человечество “уже есть” и живет в ряду себе подобных. Других, конечно, но однородных с ним суперпопулей.
Я в детстве читал про это в “Туманности Андромеды” И. Ефремова и “Солярисе” С. Лема. Это была романтическая экстраполяция в будущее мироощущения времен оттепели и начала освоения космоса. Отпечаталась в нас эта образная конструкция глубже, чем нам кажется, хотя жить нам теперь приходится в совершенно другой эстетике.
Жаль, что идею Ефремова испортили ходульным советским фильмом, но зато нам повезло с творением Лема, попавшим в руки А. Тарковского. Будь я поприколистей, поставил бы “Туманность” сейчас, как кинофутурист. Из серии “Предчувствие космоса”, но с обращенностью не в прошлое, а в будущее. Примерно так и поступил Ф. Бондарчук с «Обитаемым островом», но у него вышел просто звездный боевик. Но, боюсь, повторится история со вторым “Солярисом”, из которого скроили мылодраму. Масштаб и пафос – они легко уничтожаются, когда выворачиваются наизнанку. Ирония – лучшее оружие против пафоса, но следует помнить, что в истории они равноправны.
Но разве только фантастика дает возможность смотреть из позиции будущего, когда человечество “уже есть” и живет в ряду себе подобных? Не только. Бывают и “научные утопии” и даже глобальные проекты такого масштаба. Здесь можно найти великолепный своим бескорыстием набор идей русского космизма и не менее впечатляющий своим корыстолюбием набор идей и проектов западного глобализма.
Реакция на большие идеи в нашем времени резко отрицательная. Но этот наш период не вечен, а идеи эти еще сослужат свою службу в ближайшем будущем. Я это знаю точно, поскольку исследовал циклы общества.
* * *
Что-то заставляет меня отвечать на второй важнейший вопрос – а какого рода оно, Человечество? И вообще, может Человечество здесь и вовсе ни при чем? Может мы этим словом прикрываем наше незнание о чем-то совершенно другом?
И в этот момент в моей голове что-то щелкает. Не может быть!
Как раз может. В этом разреженном пространстве незнания, в этом смутном понимании чего-то там о Человечестве и его истории фигурирует крайне мало идей и моделей. А вдруг мы безвольно приняли за основу первую попавшуюся гипотезу, чей-то скоропалительный проект, утопию или имидж и тиражируем их за неимением других. Проверить эти идеи мы никак не можем – масштаб объекта не тот. Методологический инструментарий науки и даже философии тоже пока что явно не такого масштаба, чтобы оперировать историей как целым и “человечествами” – нашим среди многих космических суперпопулей. Хотя что-то нас к этому явно подвигает: телевизор вот уже лет двадцать сплошь о пришельцах и параллельных мирах толкует. А раз в коммуникации что-то варится и явно идет массированная подготовка “общественного сознания”, то следует ожидать, что нынешние киносказки скоро станут былью. Но реальность от этих сказок будет отличаться так же, как реальность концлагерей от советских и нацистских киногероев в белых одеяниях.
Общество в его предельно широкой рамке – человечество. Это не машина и не организм, хотя через эти понятия мы пока только и можем построить первичное представление об обществе.
А что это? Для ответа на этот вопрос у нас отсутствуют методы. Посмотрим хотя бы, что есть в наличии.
* * *
Подведем итоги. В картинах мира мы обнаружили не слишком большое разнообразие. Если переводить это на технический уровень, у нас не так много инструментов для работы.
Полный текст доступен в формате PDF (2726Кб)
Н.Н. Александров, Метод системокинетики. Книга первая: Статика // «Академия Тринитаризма», М.,
|
|