|
|
|
Н.Н. Александров

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
ВВЕДЕНИЕ
Глава I.
ОСНОВНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ МОДЕЛИ-ИНВАРИАНТЫ
ПЕРВОГО И ВТОРОГО УРОВНЕЙ. Числа 0-1-2-3
1.1. Нуль, его содержание и свойства
1.2. Первый уровень. Единица, или Монада
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
1.3. Двоичность, или Дуада
1.4. Троичность. Триада и противоречие
Глава II.
МОДЕЛИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
2.1. Феномен четверичности. Тетрада
2.2. Пакеты понятий, получаемые на основе одного числового инварианта
2.3. Число как оператор
2.4. Переходы между числовыми моделями и их связанность
2.5. О специфике геометрических экранных представлений
2.6. Пять и шесть — иная ипостась числа
Глава III. МОДЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЯ. Числа 7-8-9-10
3.1. Семерка в идеальных моделях. Гептада
3.2. Типологическая восьмерка. Огдоада
3.3. Девятка в моделях типов. Эннеада
3.4. Десять и Декада
Глава IV. ПОСЛЕ ДЕСЯТИ
4.1. Число одиннадцать
4.2. Особый феномен числа двенадцать
4.3. Эволюция цветовых моделей
4.4. Заключение с продолжением
4.5. Числовые инварианты циклов истории
Глава V. РАЗНОВИДНОСТИ СИММЕТРИИ
И ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ В КУЛЬТУРЕ
5.1. Типы симметрии
5.2. Эволюция типов симметрии в истории
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЛИТЕРАТУРА
ПРЕДИСЛОВИЕ
Природа действует небольшим
количеством общих принципов
Сент Дьёрди
Для чего люди пишут книги? Мне кажется, чтобы ответить на самые главные вопросы жизни вообще и современности — в частности. Если такими целями изначально не задаваться, то и писать их не стоит. Можно попробовать отвечать на эти вопросы по частям: сначала — о всеобщем, потом — о нашем бренном, что тоже увлекательно; но частичность может и захватить навсегда. Большинство пишущих идет именно по последнему пути. Ничего обидного в этом нет, и, кстати, писать ради ответа только на сегодняшние проблемы не всегда неправильно, иногда и такие книги становятся достойными памятниками авторам: взять хотя бы Данте — о его "Божественной комедии" современники писали, что это — опасный политический памфлет. Но мы постараемся по мере сил говорить о всеобщем, имея в виду цветущую и быстротекущую жизнь. Нужно заметить, что расхожее "суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет" Гёте вложил в уста Мефистофеля, прикидывающегося Фаустом, и так было задумано им не без умысла. Ибо кто-кто, а уж Гёте хорошо знал, что на такого рода запоминающиеся противопоставления падки именно простаки-студенты. Сам же он был образцовым мудрецом, который умел быть в бюргерской жизни министром, а в духе — олимпийцем, может быть, единственным в истории равновесным человеком.
Наша книга — книга многих синтезов. Это позволяет ее читать послойно, пропуская непонятное и опираясь на резонирующее. Такой способ чтения следует признать самым продуктивным на первом этапе. Если брать крайности, то книгу об этом попроще я написал раньше, а книгу хоть немного посложнее сегодня прочтут человек пять-семь в мире, это слишком мало, хотя и достойно усилий. Как говорил Маяковский, "нас, может быть, всего лишь семь". Во-первых, "прекрасное трудно"; во-вторых, то, что сегодня читается с трудом, завтра станет банальным, ибо истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок. Поэтому пусть будет так, остановимся на стиле "в поисках золотой середины". Эта книга сознательно написана мною для будущего, у нее уже есть свое место в новом мире, и она не нужна в старом. Почему так, вы поймете, лишь прочтя ее до конца и уяснив ее логику.
Нисколько не сомневайтесь: перед вами — научная книга, наполненная не столь частыми цитатами и в меру сложными схемами, а главное — полная всяческих синтезов и неожиданных связей. Когда я начинал ее писать, мне представилось, что я взял в руки чью-то чужую вещь, и мне захотелось видеть ее такой, чтобы вы читали ее не прерываясь. Насколько это удалось, покажет время.
О методе
В недавние времена исключительный монизм метода был у нас обязательным. Глядя на некоторую беспомощность ряда книг последнего времени, нередко думаешь, что подход “моно-” в принципе имеет здравые основания: во всех известных классических работах в науке последовательно удерживается единство метода — и тем они сильны. Мы избрали монистическое, или “объединительное, миросозерцание” (monistiche Weltanschauung — нем.), которое "рассматривает все явления природы как различные ступени развития одного всеобъемлющего мирового процесса, допускающие неисчислимые градации и степени осложнения, но существенно тождественного на всех своих ступенях" [105, 155]. К тому же объединительное единство не только монизм, оно подразумевает и оборотную сторону — многообразие. То единство, к которому мы собираемся привести множество методов, используемых в нашей работе, не сводится к плоскому монизму: это — синтетическое и даже где-то синкретическое единство, подразумевающее объединительность: мы не отвергаем ни одного взгляда, но при этом никогда не отказываемся от своей основы, считая ее пока наиболее широкой. Такому подходу соответствует и сама наша тема — взгляд на развитие культур и цивилизаций сквозь призму искусства. Поскольку искусство априори синкретично, все попытки понять и описать его через одну систему взглядов чаще всего оказываются невостребованными, здесь явно нужен веер многообразия с единством методологии.
Если жесткий монизм метода — это одна крайность (от которой мы себя дистанцируем пояснением “объединительный монизм”), то, как всегда, найдется и другая, которую нам тоже предстоит обойти, — ряд работ в указанном тематическом поле просто репрезентирует наличие множества точек зрения и методов исследования. Это сносно для студенческого реферата, но, когда за вывеской “плюрализма” в большинстве книг не обнаруживается ничего своего, когда за этим перечислением позиция автора просматривается как позиция коллекционера чужих идей — и не более того, это или уже не наука, или еще не наука. И снова мы говорим: объединительная тенденция есть тенденция объединения многообразия под эгидой одного подхода. Так что в этой книге мы поставили себе задачу пройти между Сциллой монизма и Харибдой эклектического коллекционирования.
Сделать это возможно лишь при выходе на уровень первоосновы используемого метода, на уровень предельных инвариантов. Такую задачу не назовешь простой: сводить воедино нам придется философские, системные и генетические, социологические, аксиологические, эстетические, искусствоведческие, психологические и нумерологические понятия, не говоря уж об истории искусств и дизайна и включая педагогику искусств и дизайна. Мы применяем как известный “прямой” прием распространения наиболее общих философских понятий на уровень практики — методологию как обращение теории на практику, — так и обратный, пытаясь обогатить философию некоторыми новыми аспектами в трактовке ее понятий и двигаясь при этом от исследовательской практики к наиболее общим пластам теории.
Мы будем последовательно выстраивать методологию исследования, ориентированную на определенную универсальность, что и делает работу философской. Универсальность позволяет говорить о возможности распространения нашей методологии еще на ряд предметов (кроме непосредственного предмета нашего исследования). В развернутом методе у нас будут соединяться воедино исторический и логический аспекты исследования: станет возможным свободно переходить от явлений, проявляющихся в определенный момент времени, к количественно-качественным характеристикам и логическим конструктам. Единство синхронного и диахронного планов исследования обретет форму целостности, отчего предмет исследования можно будет видеть сразу как в двух этих планах, так и в целом.
Интегративный научный комплекс, позволяющий нам это сделать, — общая системогенетика. В работе применена методология общей системогенетики.
Заявок на синтез достаточно, теперь — о самом способе, при помощи которого мы намерены строить наш метод, применяемый во всей книге.
Г. Гегель писал, что наука должна находить общее в разном и разное в общем. Классическая наука решала подобную задачу при помощи ряда известных приемов. Мы также используем их, хотя из данного арсенала предпочитаем поиск структурных (и прочих) инвариантов: во многом это — метод аналогий. Кроме того, один из самых основных приемов у нас поиск отдаленных ассоциаций, который еще не стал широко распространенным в науке и который сопровождает метод аналогий. Нам представляется, что качество знания напрямую зависит от того, каков объем сфер и какова глубина уровней, на которые мы смогли распространить наши инварианты, аналогии и ассоциации. Здесь встает вопрос о методах расширения пределов нашего познания: это — поиск инвариантов, присущих как бытию, так и мышлению, предельно глубоких структурных инвариантов, а также всевременных и вневременных инвариантов. Все приемы в книге (да и во всех наших работах) в той или иной мере мы применили. Это позволяет нам отрефлектировать некоторые собственные положения и сравнить их с существующими в науке тенденциями.
Один из главных наших принципов — антропоморфизм нашей мировоззренческой системы. Это — антропоморфизм, подразумевающий структурную инвариантность человека, общества и мира вне нас. Схожий взгляд выражают и некоторые современные философы, задающиеся такими вопросами: “Не имеет ли организм тенденции воспринимать окружающий мир в образах тех самых групп преобразований, в соответствии с принципами которых он сам сформирован? Не родственны ли принципы структуризации, реализуемые в морфогенетических феноменах и психологических явлениях пространственного восприятия?” [121, 39]. В книге мы будем не раз обращаться к истокам такого понимания: первобытным, древнегреческим, возрожденческим и более поздним. Общий вывод, который возникает при изучении истории, состоит в том, что антропоморфизм априори присущ менталитету человечества и в совокупности неантропоморфные модели занимают в нем гораздо более скромное место. Современное понимание в чем-то возрождает тенденцию к синкретизму недавнего прошлого: психолог А. Пуанкаре, во многом следуя за Г. Вёльфлином, считал, что наши пространственные представления потенциально заложены до рождения, и утверждал, что система координатных осей, к которым мы, естественно, относим все внешние предметы, — это система осей, неизменно связанная с нашим телом, система осей, которую мы носим всюду с собой. О принципе антропоморфизма, понимаемом подобным образом, писали и В.М. Бехтерев, у которого наиболее глубоко и наиболее просто развернут принцип общественного антропоморфизма, и В.И. Вернадский, мысли которого распространились на всю ноосферу. Упоминали об этом и известные западные психологи, такие, как Дж. Брунер, Ж. Пиаже, К. Юнг, С. Гроф, исследователь искусственного интеллекта М. Арбиб. Кстати, русская плеяда философов-космистов к постановке данной проблемы подходит значительно шире своих современных западных коллег.
Мы ставим задачей показать в нашей работе, что антропоморфный образ мира является отображением всеобщих многомерных закономерностей, присущих Универсуму, — и это некая предельно возможная аналогия. Антропоморфизм общества и мира интересует нас и в наших тематических рамках, ведь ключевым понятием у нас выступает образ. Мы говорим об искусстве и эстетической деятельности в целом и заняты поисками всеобщей конструкции образной голограммы. Более того, мы считаем, что традиционно выделяемые образы двух видов (чувственно-наглядные и рациональные) в голограмме художественного образа слиты. Искусство активизирует психические процессы, а они усиливаются, когда резонируют две стороны: внешний образ мира и субъективное семантическое пространство (по А.Н. Леонтьеву). Об этом можно говорить патетически, эссеистически и т.п., в чем немало преуспело искусствознание. Мы же будем стремиться изъясняться только языком науки, ибо, как выразился "крестный отец эстетики" Нового времени А. Баумгартен, "чувственное познание как творческий процесс и наука об этом познании — отнюдь не одно и то же: если чувственное познание художника смутно и нераздельно, то теория этого познания должна состоять из ясных и отчетливых понятий" [цит. по 86, 16].
Образные модели двух видов (чувственно-наглядные и рациональные) относят к средствам построения нового знания. Применяя в исследовании число и геометрию, мы сводим две ипостаси образа в новое целое. При этом мы сталкиваемся с единством непрерывности и дискретности, напоминающим способ работы ЭВМ с базой данных и программами: чувственно-наглядные компоненты выступают как дискретные элементы языка, а рациональные играют роль программы, развернутой во времени.
В нашей серии набор синтезируемых методов делится на три группы по уровням общности: от предельно всеобщих и общих методов философии и системогенетики через уровни особенного — эстетики, искусствознания, поэтики, теории стиля и т.д. — к единичным и конкретным методам прикладной психологии, теории композиции и эволюции видения.
Мы стремимся к синтезу всей совокупности изложенных разноуровневых подходов, что в результате и порождает продукт, обладающий определенной научной новизной. Своим методом мы постараемся убедить читателя, что новое знание всегда возникает в новом целом, объединяющем в себе множество уже существующих подходов. Новое при этом есть то, что не содержится в отдельности в изложенных выше подходах, "дельта плюс" системы.
Признак научной новизны данной работы: наша модель способна выступать структурообразующей по отношению к любому знанию, в котором есть некий генетический ряд. На основе предложенного здесь метода мы можем упорядочить все имеющиеся в нашем распоряжении знания и факты, независимо от области их дислокации.
Есть два принципа в нашей работе, на которых она строится как исследование, принципиально отличающееся от всех прочих. Эти принципы очень важны, но донести их до понимания во вводной части нам довольно трудно. Они различаются как онтологический и генетический принципы, или взаимосвязанные ключевые приемы, образующие отличительные признаки нашего метода.
Первый принцип — онтологический. Он выражается в нашем случае через прием многослойного суперпозиционирования. Сам прием состоит в поэтапном наложении на один и тот же онтологический экран всех теоретических построений, которые мы употребляем в нашем исследовании. Далее в их основаниях мы ищем общие моменты, которые можно выразить как инвариантную составляющую всех онтологических моделей. Здесь применен ряд более локальные приемов.
Первый состоит в выявлении инвариантности по геометрическому признаку сходства: сходные по геометрии модели имеют, как правило, сходные онтологические признаки.
Далее на этой основе внутри многослойной онтологической модели мы устанавливаем более сложные связи путем переноса свойств одной модели на другую: сходные модели имеют свойство взаимодополняться.
Следующий шаг — привлечение для трактовки общего пакета онтологических моделей таких дополнительных моделей, которые являются по отношению к данному набору более общими или интегрируют некоторую часть этой общности. Их свойства одновременно распространяются на весь набор моделей в одном пакете.
Завершается процесс внутренним структурированием, приводящим к общему для всех используемых моделей структурно-онтологическому инварианту. У него есть ряд особых свойств, близких к философско-математическим.
Например, проведя такую послойную структуризацию в работе “Формула истории”, мы обнаруживаем, что понятия и категории эстетики на одном уровне и стилевые понятия, понятия манеры и моды на других уровнях построены на основе одного и того же инварианта. Его всеобщность дает возможность вообще избавиться от множества весьма сложно трактуемых в разных школах эстетико-искусствоведческих понятий.
Структурный инвариант, который мы получаем в результате послойного анализа и многих обобщений, является для нас наиболее важным и конечным продуктом в статико-онтологической сфере. Он позволяет нам далее перейти к генезису и исследовать историю через призму искусств. При этом мы вводим, несомненно, очень важный методологический принцип: все, что претендует на истинность в онтологической плоскости, должно подтверждаться генетически и пройти историческую проверку.
Тут вступает в силу второй, генетический, принцип, непосредственно связанный с первым; он является также отличительной особенностью нашего метода. Онтологический набор, способный выступить как инструмент синтеза нового знания, имеет второе, генетическое, отображение и является обязательным.
Сегодня мы можем с достоверностью сказать, что в истории на всех уровнях применены одни и те же инварианты, а результатом их соединения являются неповторимость и преемственность любой исторической последовательности.
Возникновение неповторимого из повторяющегося дает нам возможность говорить о формуле истории. На каждом уровне один и тот же инвариант воплощается в разных масштабах и имеет разные носители. Каждый из носителей мы можем рассматривать и изучать как самостоятельный организм — и многие истории, претендующие на полноту охвата, и впрямь таковыми являются, но лишь на одном уровне — и по отношению к одному носителю.
Мы изначально старались ориентироваться на машинные носители информации и даже предпринимали попытки машинного синтеза нашей методологии. Но работа оказалась чрезвычайно сложной, хотя нами был приобретен здесь уникальный опыт. Его нужно бы развить, ведь иного пути у нас нет, и вопрос только в скорости освоения тех или иных методов. Многослойное структурирование истории, многослойный прогноз — неизбежность завтрашнего дня. Никто в мире пока не владеет аналогичным синтетическим подходом, ибо он — русский.
О Числе
Л. Ландау называл естественные науки
естественными, гуманитарные — неестественными,
а математические — сверхъестественными.
И. Шевелев
Избранная система счисления... позволяет
числам выразить внутренний ритм и
строй обсуждаемого явления;
напротив — затемненность структуры изучаемого
во многих случаях должна быть вменена
в вину непродуманно применяемой системе счисления.
П. Флоренский
Перед вами — первая книга серии, посвященной в основном вопросам философии истории, общее название всей серии — “Формула истории”. Но в то же время “Числовые инварианты в менталитете” — абсолютно самостоятельная и внутренне завершенная работа, что и позволяет нам смело выпускать ее в свет и не волноваться за ее судьбу.
Почему она выходит первой? Потому, что оказалось: методология числового анализа и герменевтика числа удерживают, как стальной каркас, всю нашу последующую, более развернутую, методологическую конструкцию, относящуюся к естественному, гуманитарному и социальному знанию. Следовательно, не доведя до заинтересованных читателей этот фундаментальный методологический блок, мы не сможем перейти к последующим, так сказать, “надстроечным”, конструкциям. Нужно заметить, что тематическое самоотделение числовой методологии было неожиданным для меня как автора, и я испытываю некоторые сомнения, потому что до сих пор не могу до конца обособить эту тему из всей содержательной совокупности, составляющей наш обширный труд. Но тому есть причины, и касаются они в основном лишь объема издания.
Серия книг под общим названием “Формула истории” как тематическое единство писалась весьма долго. Она все же превратилась в многотомное издание, хотя я всеми силами пытался ее удержать в рамках приемлемого объема единой книги. Надеюсь, поэтапная публикация книг не помешает сделать и объединительный шаг в конце выхода их в свет.
Одним из вариантов заголовка у данной книги был такой — “Числовые инварианты в культуре и человеческой психике”. Он, возможно, более точно отразил бы двойную обращенность числа: на общество (число в культуре) и на человека (число в психике). Но все же по большей части мы говорим здесь о ментальных инвариантах, потому что тема рассматривается нами в контексте философии в целом и философии истории в частности. Различение совокупности обществоведческих и социологических понятий (менталитет, ментальность, общественное сознание, культура, цивилизация, человечество, общественная группа, личность и т.д.) делается целенаправленно в третьей книге серии. Здесь же, говоря о менталитете и ментальности как синонимах, мы подразумеваем фактически множество иерархических проявлений “совокупного общественного интеллекта” и “общественной психики”. Вот почему чаще всего речь будет идти об инвариантах, проявляемых в науке (как классической, так и неклассической, как традиционной, так и нетрадиционной), в искусстве и в лежащих рядом сферах. “Менталитет” выступает как единство, как общее, объединившее в себе многообразие видов особенного и бесчисленность проявлений единичного.
Число имеет особое значение в менталитете как абсолютный инвариант. Прочтя книгу, вы в этом, надеюсь, тоже убедитесь. Тема “Инвариантные свойства числа в менталитете”, вынесенная в заглавие книги первой, является основанием нашего общего метода и присутствует во всей серии “Формула истории”. Это очень важно подчеркнуть, ведь нам придется не раз впоследствии обращаться к тем или иным положениям данной работы. Это не слишком удобно, вот почему нам и не хотелось отрывать ее от методологической части следующей книги, но в то же время у самой темы Числа существует явная автономность.
Исследуя многообразие, объединенное единством методологии, мы с неизбежностью выходим на уровень предельных инвариантов, а одним из них, несомненно, является Число, далее — все, что с ним может быть связано. Такая методология универсальна, что и делает работу во многих отношениях философской. А универсальность позволяет говорить о возможности самого широкого распространения данной методологии.
Здесь мы, конечно же, неизбежно соприкасаемся с логическими работами Э.Гуссерля*, как раннего, так и позднего периода**, а также метатеорией математики, актуализировавшейся в том же историческом периоде. Речь идет не только о работах А. Пуанкаре и Кассирера, но и о философских работах представителей “нового рационализма”, например, Э. Мейрсона***.
Мы соприкасаемся и с титаническим трудом А.Ф. Лосева, выделившего философию Числа наряду с философией Имени. В данном случае мы имеем дело с той темой, которую с абсолютной завершенностью он преподносит нам в своей философии математики — в недавно изданных “Диалектических основах математики”, “Числе у Плотина” [95; 97] и в ставшей всемирно знаменитой работе “Музыка как предмет логики” [98]. После него в рамках самой классической философии сказать больше нечего, дай Бог хотя бы вполне освоить огромный лосевский мир.
Наш ракурс несколько иной, и, хотя он тоже философский, имеет отношение к социальной философии и философии истории. Здесь мы говорим о менталитете и общественном сознании — именно в этом освещении нас интересует специфическая инвариантная роль числа, его способность служить ментальными “скрепами”, управлять менталитетом.
Таким образом, родившись как нечто специфичное, сама наша тема стала универсальной и имеет право таковой оставаться во многих отношениях. Правда, достигнуть полной отдельности книги о числе в рамках серии по философии истории в принципе невозможно, вот почему избежать существенных внутренних отсылок на положения “Формулы истории” нам не удастся. Утешим себя хотя бы тем, что для этого приложены все усилия.
Внутренняя перекличка нескольких книг, связанных в серию, скорее, добавляет полифоничности любой из них. Серийность — признак нашей эпохи, и важнее всего в подобной серии указать на объединительные особенности методологии.
Все наши книги базируются на общих принципах. Упомянем хотя бы два важнейших: это — онтологический и генетический принципы, за которыми скрываются дискретность и непрерывность, историческое и логическое и т.п. модификации. Онтологический принцип выражается в наших работах через прием многослойного суперпозиционирования, наложения на один онтологический экран теоретических моделей, которые мы употребляем во всей серии. На его основании мы ищем инвариантную составляющую всех этих онтологических моделей, которая имеет числовое выражение. Данный статический инвариант позволяет нам перейти к генезису: онтологический принцип всегда дополняется и проверяется генетическим.
В эту книгу не вошло многое, что представляло бы интерес для некоторых, скажем, локальных, специалистов. Мы сознательно ограничили себя в примерах из области искусства, а они поистине бесчисленны. Но именно отбор позволил удержаться в рамках обозначенного тематизма — главные числовые инварианты в менталитете. Возможно, впоследствии мы вернемся к ней в расширенном варианте: в науке ничто не возникает просто так и не пропадает бесследно.
Если говорить о таких материях, как историческая необходимость, то мы живем при подведении итогов истории. В столь эклектическом времени, лихорадочно пропускающем сквозь мясорубку всю предшествующую культуру, подобная книга, в общем-то, не нужна: это время менее всего озабочено широкими обобщениями, всеобщими законами и глобальными инвариантами. Но оно быстро кончится. И наступающему сверхновому времени наши идеи будут уже очень нужны. Таким образом, перед вами — заготовка для скорого будущего. Здесь нам должно повезти больше, чем титаническим лосевским книгам о числе, прождавшим своих читателей полвека.
* * *
В завершающей части даются основные выводы и итоговые таблицы и намечаются варианты продолжения исследования, в частности в области методологии истории в целом.
Кроме того мы отдельно обращаемся к теме симметрии, которая не просто перекликается с темой числа, а составляет с ней единое целое.
ВВЕДЕНИЕ
1. Гносеологические особенности и интегративные возможности нумерологической методологии
Возникновение интереса к обозначенной теме обусловлено динамикой развития современной науки. Мы являемся свидетелями рождения новых наук, возникающих на стыке ряда традиционных, и этот процесс принимает хорошо ощущаемый закономерный характер. Особое место в живом потоке науки занимают современные междисциплинарные интегративные научные комплексы, соединяющие в себе уже не две и не три, а целые ансамбли наук. От новообразований, стремящихся к синтезу знания, следует ожидать принципиального сдвига в структуре науки, и такой сдвиг неизбежно приводит к конфликту с традиционными представлениями о научных дисциплинах. В качестве “традиционных” обычно фигурируют евроамериканские научные представления Нового времени, на самом деле это не столь распространенное в истории и уж далеко не единственное понимание науки, если говорить о ней как об инструменте поиска Истины человечеством.
Чтобы снять назревающий и вполне естественный конфликт, необходимо выйти на уровень “над наукой” и произвести оттуда очередную рекогносцировку. В отдельных аспектах это имеет отношение к науковедению, но если говорить о парадигме в предельно широком значении [91], о смене ментальной парадигмы, то обратиться следует прежде всего к философии. Эту работу в значительной степени проделал в нашем веке великий А.Ф. Лосев, но, как заметил П.А. Флоренский, между открытием отдельного творца и принятием его идей в обществе должно пройти не меньше 50 лет. Как раз через полстолетия мы и возвращаемся к сумме идей А.Ф. Лосева, и главное — к самой его постановке вопроса в философии.
Интегративная методология необходима нам в связи с самим нашим предметом исследования. Продекларированное разнообразие подходов возникло не на пустом месте, а путем постепенного “прирастания” к основному стержню работы. Это — естественный процесс, и теперь нам необходимо привести весь накопившийся объем к некоторому общему знаменателю, объединить его единой философской методологией. Степень общности этой методологии такова, что можно назвать ее предельной, а пределом общности обладает только система философских категорий и методология философии. Говоря о философии, мы придерживаемся взгляда, который, может быть, трудно назвать сегодня широко распространенным: вся мировая философия, без исключений и изъятий, образует непрерывно развивающееся целое. У философии есть свои циклы, где каждый предыдущий цикл снимается и сжимается в новом, так что отбрасывания в философии нет — есть накопление и сжатие знания. Система философии как целое по устройству как минимум дуальна (Восток — Запад), и ее траектория представляется в виде непрерывной двойной спирали, о чем мы еще будем подробно говорить.
Нынешняя стадия развития философии началась в 20-х годах нашего века, и ее настоящие парадигмальные характеристики нам пока только предстоит осознать. Это был первый принципиальный и самый мощный импульс онтологического характера. Он требует отдельного разбора, и его не нужно смешивать с политическими и идеологическими глобальными экспериментами того же времени. Мы будем обращаться к этому первоначалу на протяжении всей книги.
Второй импульс философия получила в конце 50-х — начале 60-х, он во многом продолжил линию 20-х, хотя был уже содержательно совсем другим. Это — обширное поле поисков, которое можно очень приблизительно обозначить как “функционализм”.
Возьмем один из примеров. С начала 60-х годов на наиболее универсальную методологическую функцию претендовало так называемое “методологическое движение”. Будучи хорошо знакомым с ним на практике (поскольку оно напрямую пересеклось с теорией дизайна и теорией деятельности), должен сказать: претензии этого движения для своего времени были логичны и находились в русле инструментального рационализма нашего века (он ярко обозначился и в русской ветви философии 20-х, например еще в раннем эмпириомонизме А.А. Богданова, в синтетической деятельности А.К. Гастева, его ЦИТа). Но, как и всякие иные претензии на тотальность, установки “методологизма” не прижились в обществе, как и следовало ожидать, именно в своем главном качестве: это направление не стало новой мировоззренческой парадигмой, о чем красноречиво свидетельствует недавно возникший журнал “Вопросы методологии”, в котором хорошо просматривается явный тупик этого движения (тупиковость можно констатировать, поскольку названный коллегиальный журнал освещает преимущественно “цеховые” внутриметодологические проблемы, а от задач, поставленных в момент формирования главных мировоззренческих установок методологии, уклоняется). Это естественно: когда содержание исчерпано, остается шлифовать форму. Но при потере лидерства не исчезает сама проблематика: так, А.И. Субетто выделяет наряду с четырьмя современными парадигмами в науке и пятую — методологическую, или рефлексивную [144].
Третья попытка философии создать новую парадигму предпринималась в начале 90-х и, в общем, продолжается сегодня. Немногочисленные частичные, или аспектные, определения специфики нашего времени (типа “третьей волны”, “информационного общества” и т.п.) можно назвать более или менее удачными констатациями, но признать их ментальными парадигмами мы снова-таки не можем. Забегая немного вперед, укажем на две довольно очевидные недостаточности такого рода попыток: новая ментальная парадигма должна коренным образом изменить концепцию ментального хронотопа — времени и пространства, а кроме того новая ментальная парадигма должна вписываться в логику социоэволюции (и шире — мегаэволюции, эволюции всего известного нам мира в пределах Универсума).
Таким образом, специфика новой ментальной парадигмы, может быть, главный вопрос, который нам предстоит осмыслить в книге. Поскольку это проблема сложная, то для начала должны быть выработаны основной логический каркас и метод исследования: каким образом будет идти движение в данном направлении, какими средствами и какого результата мы при этом собираемся достигнуть.
Отталкиваться мы будем от традиционных методологических принципов, выработанных в философской методологии: 1) принцип единства исторического и логического; 2) принцип восхождения от абстрактного к конкретному; 3) принцип единства диалектики, логики и теории познания. Третий принцип мы попробуем слегка модифицировать, расширив понимание “диалектики” до более широкой “N-лектики”, что вовсе не отрицает главенства диалектики.
В качестве поля, задающего тематику исследования, у нас выступает формационная и культурно-цивилизационная проблематика. Это — обширное научное пространство, плотно заполненное школами, теориями и авторами, и мы к ним ниже обратимся.
В качестве призмы для рассмотрения данного поля выступает эстетическая деятельность, в частности искусство. Искусство вбирает в себя все возможные типы человеческой деятельности, находясь как бы на их скрещении, и образует систему, в которой все они функционируют в качестве составляющих элементов, по М.С. Кагану [71]. Еще более полно универсализм функций эстетической деятельности представлен в работах Л.А. Зеленова [62]. Эстетическая деятельность оставляет нам в качестве результатов реальные модели, материальные «конструкции», сотворенные из “строительного материала” разных искусств с привлечением материала “художественно-нехудожественных” видов эстетической деятельности. Вот почему у нас нет особых проблем с фактами и артефактами (а также источниками и датировками), как раз наоборот: в ряде случаев все, что остается от цивилизаций, — это несколько памятников, являющихся именно эстетическими произведениями. Мы исходим из простого утверждения, гласящего, что всякое эстетическое произведение есть наиболее плотный из возможных текст, и этот текст поддается специальной расшифровке (причем даже с наличием множества искажений в повторах, копиях, интерпретациях и подражаниях). Художественный текст изначально построен на принципах информационной избыточности, и этот ракурс прямо соответствует той фундаментальной категории, которую великий А.Ф. Лосев называл “выражением” [98].
Все вместе образует тематический сгусток, ядро, находящееся на перекрестье интересов как классической философии [152], социологии [132], эстетики и культурологии [170], так и современных неклассических направлений в науке. Это ядро разрабатывалось в истории науки с древнейших времен [114; 116; 121; 131], хотя наиболее активно — в науке прошлого века [133; 152], особенно — начала нынешнего [168]. У этого ядра есть даже своя мифология, претендующая на всеобщую гуманитарность [87].
Очертим абрис проблемы. Мы хотим воссоздать ментальную историю общества, основываясь на специальной реконструкции непрерывного исторического ряда произведений искусства.
Избранная проблема объемна и многогранна. Ввиду ее многослойной структуры выработка средств осмысления идет через процесс употребления категорий и терминов ряда других теорий. Эти категории по большей части заимствованные, что неизбежно для всякой становящейся теории. Но с самим процессом ее становления (и это не редкость в науке) их смысл и содержательное наполнение становятся иными, чем в первоисточниках. Возникает особый синтез, где пространство языковой реальности изначально получает приставку “поли”. Вот почему для освещения избранного набора тем нам понадобится не только определиться с использованием ряда ключевых терминов, но и кое-где рассмотреть генезис основных применяемых подходов, ведь понятия и термины зачастую меняют свою наполненность в зависимости от контекста и фазы развития менталитета. Нередко, говоря об одном и том же подходе, мы имеем в виду очень разные его проявления, поскольку сам подход изменяется в своем развитии до неузнаваемости. В этом сложном случае нам нужно хотя бы зафиксировать, какую именно стадию в эволюции того или иного термина мы принимаем за основу. Вопрос не праздный, ведь соединение понятий, использованных в разное время в разных контекстах, может привести к методологической эклектике (в особенности это опасно для ключевых понятий). Мы приложили немало сил, чтобы разработать аппарат тонкого методологического различения сходного по названиям, но разного по сути. Не исключено, что именно он может оказаться для многих исследователей наиболее ценной и практичной частью нашей работы.
О единстве исторического и логического
Обратимся к оговоренным выше трем методологическим философским принципам и рассмотрим, как они проявляют себя. В качестве основополагающих (для построения логического каркаса исследования) мы будем рассматривать философский и системогенетический подходы, которые во многом являются взаимодополняющими. Первый признак сходства этих подходов — в двух ракурсах, двух равновозможных взглядах на предмет исследования. Это — статический и динамический ракурсы.
В философии в качестве статических обычно рассматриваются онтологические, сущностные, проблемы, а в качестве динамических — проблематика существования во времени (у А.Ф. Лосева этому соответствует категория “становление”). Сама фундаментальная дуальность имеет множество методологических воплощений, например известное требование единства исторического и логического, о котором красноречиво говорил Н.Г. Чернышевский (без теории нет истории, но и без истории нет и не может быть мысли о теории) [170] и который в завершенной философской форме выразили как Э.В. Ильенков, так и, конечно же, А.Ф. Лосев [98].
По отношению к социальной философии отмеченная дуальность звучит как “социальная статика и социальная динамика”, принцип, использованный в социологии еще О. Контом [133], затем продолженный П.А. Сорокиным [132] и рядом наших современников. Как и в любом другом принципиальном философском вопросе, в истории философии можно найти куда более ранние источники такого разведения (древнегреческая философия), но это лишь доказывает, что сама история философии циклична и любое новое знание наследует бывшее до него. (Кстати, забегая вперед, можно зафиксировать, что статические модели начинают всякий ментальный цикл, а динамические завершают его. Это прекрасно прослеживается на материале истории философии в целом и истории социальной философии, в частности у А.А. Ивина).
Мы фиксируем наличие данных ракурсов и в эстетике, это проявлено, например, в двух теориях эстетики, которые мы рассматриваем в качестве базовых — в структурно-эстетических работах Л.А. Зеленова [60-65] и структурно-динамических — у Н.И. Крюковского [85-87].
Cистемогенетика по уровню общности располагается в ряду интегративных научных комплексов самой высокой степени общности, однако она не претендует и не может претендовать на место философии в осмыслении мира, будучи не более чем новой наукой. Но ее специфический метод имеет собственную ценность и для философии в том числе — системогенетика как бы заново вносит в науку вопрос о целостности познания и освоения мира [145] и ищет свои методы для решения данного вопроса. Системогенетика уже по названию содержит отмеченную выше дуальность: в ее составе статика — системные взгляды, а динамика — генетические. В рамках классического системного подхода, где специального типа временного отображения не было выработано, аналогично звучал тезис о необходимом единстве синхронного и диахронного [153] срезов. Но на деле диахронный подход не всегда распространялся на генезис и чаще всего сводился к анализу функций и их “жизни” в настоящем.
Существует достаточно сложный вопрос о различении и корреляции таких пар, как бытие и становление, покой и движение, статика и динамика, логическое и историческое, синхронность и диахронность, дискретность (квантированность) и непрерывность, с парой пространство и время. В индийском джайнизме с подобным набором поступили красиво и просто: движение и покой (дхарма и адхарма — условия движения и покоя) существуют рядоположенно со временем и пространством — четверка просто-таки завораживает своей завершенностью целого [161]. В европейской философии это довольно мучительная проблема.
Мы такие подходы разводим, и нас всегда интересует, насколько бытие в его статике можно рассматривать как тождественное пространству, а становление в его динамике — времени (такие возможности в науке есть). Если это (в инвариантной его части) есть одно и то же, то следующий вопрос касается способов отображения: тождественно ли отражает пространство геометрия, а время — язык волновых колебаний? И главный вопрос: нет ли варианта совмещения геометрического отображения с временно-волновым? Но это совершенно особый ракурс проблемы, который нужно постараться очень точно обозначить.
О метаязыке исследования и четырех языках отображения
Обратимся к вопросу о специфике нашего метода, а именно — к тому особому языку, который переводит метод в средство трансляции знаний, имеющих вполне определенный набор значений и смыслов (мы пока будем употреблять термины “значение” и “смысл” как синонимы, что общепринято в науке; при рассмотрении понимания мы их позже разведем).
Известно, что смысл, аккумулированный в любого рода рациональных и образных моделях, не сводится ни к словам, ни к рациональным моделям, ни к образам, ибо все они являются не более чем посредниками для перевода смысла в некую особую языковую реальность — в метаязык. Эта гипотеза «метаязыка», которой мы воспользуемся, принадлежит лингвистике (хотя идеями метазнания, метамоделей и прочих мета- пропитана буквально вся современная наука, а ее философское осмысление А.Ф. Лосевым остается непревзойденным). Выделяя частные языки (или способы отображения, каковых мы будем приводить немало), важно заострить внимание на том, что все они замыкаются на метаязык как единый носитель смысла. Смысл, о котором здесь идет речь, преимущественно философский.
Теперь о функции этого шага. Мы будем пользоваться представлением о метаязыке, по В.Л. Глазычеву, как о поле взаимодействия между принципами, методами и средствами исследования. Именно в данной функции “метаязык” проявляет себя наиболее продуктивно. Его содержательная наполненность обусловлена множественностью синтезируемых оснований.
Двигаясь по пути синтеза многочисленных подходов, о которых не раз упоминалось, мы столкнулись с необходимостью как минимум четырех самостоятельных типов отображения, неизменно связанных друг с другом. Назовем такой аргумент экспериментальным, или практическим, хотя он сам по себе малоубедителен. Эти разновидности отображения явно обусловлены самой логикой подобного рода исследований, в конечном итоге именно эти четыре типа неизменно всплывали и связывались. Набор языков отображения, примененный в нашей работе, построен как предельно универсальный: кроме слова (понятия) это и язык числа, и язык геометрических моделей, и язык отображения во времени.
То, что мы хотим продемонстрировать в результате нескольких шагов, изложим сразу, но пока — как гипотезу. Для удержания искомого смысла необходимым и достаточным набором способов отображения являются четыре: словесное (понятийное), числовое (шире — классиологическое), пространственное (геометрическое), временное (композиционное). В совокупности эти четыре языка и составляют необходимые части метаязыка. Понятие, число, геометрическое и временное выражения объединены на каждом шаге единым смыслом метаязыка — и это позволяет строить интересующую нас ментальную модель как светящееся смысловое ядро, имеющее отображения в разноцветных гранях кристалла. Если научиться удерживать наши представления одновременно на всех этих гранях, то лишь в таком случае метасмысл станет объемным и живым.
Обращаясь к связке “философия — системогенетика”, мы можем констатировать, что системогенетика в нашей трактовке использует отмеченные четыре типа отображения, говорит на этих четырех языках и стоит на этих “четырех ножках”, как мир — на трех китах. Реализованный в системогенетике, принцип полиязычности развернут в четыре парадигмы [144], о которых — речь впереди.
Обязательность приводимой четверки состоит в том, что она выступает как естественная клеточка целого. К беде своей, многие и многие науки замкнулись на мнимом совершенстве своих формальных, частичных способов отображения — и это не дает им прорваться как к собственному, так и к философскому метасмыслу. Что и говорить, сам этот труд не из легких, но он замечателен тем, что разрушает барьеры и дает стимулы для движения науки вперед. Между тем всякая серьезная научная работа отличается тем, что в ней обязательно осуществляется попытка доведения способов отображения до этих четырех (чаще всего исследователи держатся за один доминантный тип, прямо или косвенно используя при этом и три остальных).
Теперь о последовательности изложения типов отображения, которая выполняет в данном случае функцию их презентации. Поскольку системы понятий в интересующей нас области обозначены достаточно отчетливо (мы обратимся к ним позже), сконцентрируем свое внимание на наименее известном современному читателю способе отображения. Речь пойдет о Числе: оно, как мы постараемся показать, так же первично, как и Слово (что парадоксальным образом совпадает с “числоименем” у Велимира Хлебникова). На следующем этапе речь пойдет о геометрии, и только потом — о цикличности и ее многомерности. Это — четыре отображения одного и того же, хорошо (может, даже слишком хорошо) известные в истории философии, но вместе (как связка) они встречаются крайне редко, мы же эту связь постоянно акцентируем. А чем дальше мы отходим от их единства и чем больше отдаем предпочтение одним только понятиям (слова, слова, слова...), тем сложнее становится фиксировать стоящий за ними философский метасмысл.
Число как тип отображения метасмысла
Математика есть способ называть разные
вещи одним именем.
А. Пуанкаре
Ракурс, который мы избрали вначале, — методико-философский, и в этом смысле наша работа общеметодологическая, поскольку на данном уровне она затрагивает организующую, образующую роль Числа и Слова в менталитете. Но если у логики Слова, берущей начало от формальной логики Аристотеля, история описана и осмыслена во множестве ракурсов [12; 34], то о логике Числа и ее истории этого пока не скажешь. Между тем у “нумерологии” (как чаще всего называют проблематику Числа в истории науки) есть не только свое историческое время, но и своя роль в системе менталитета человечества как целого. И эта роль, как нам представляется, освещена недостаточно, а может быть, и вовсе пока не осмыслена. Отсюда и поворот в нашем повествовании: мы хотим нашу исследовательскую методологию “достроить до целого” и потому обращаемся к Числу.
Можно достоверно констатировать, что в междисциплинарных исследованиях, где возникает необходимость использования ряда языков, возникает и возможность появления особой метаязыковой реальности. Так, на стыке естественных наук с гуманитарными было создано большинство работ Р. Якобсона. Работы Якобсона о перекрестье и связке разных наук, его особый интерес к инвариантам в биологии и языкознании ставят его в ряд самых оригинальных мыслителей современности. Как констатировал Вяч. Иванов, он использовал элементы структуры древнекитайского менталитета (нумерологического по исходным принципам) для решения проблем языкознания.
В нашем веке внутри европейской науки интерес к нумерологии в аспекте симметрии активно проявлялся в естественных науках (физики Ли и Ян, биолог Жакоб). В последние годы влияние нумерологии ощущается в “теории сверхструн и супергравитации”, разработанной Грином и Шварцем. В данных работах есть ряд поразительных совпадений с древнекитайской нумерологической картиной мира (вплоть до трактовки тех или иных числовых ключей).
Этих немногочисленных ссылок, возможно, недостаточно, и требуется более фундированное подкрепление со стороны авторитетов мировой философии. Слишком уж развивать названную тему не станем, но к авторитетам обратимся. Конечно же, мы здесь идем по проторенному пути, и проторенному в первую очередь все теми же древними греками (правда, этот путь сначала надо пройти, чтобы потом найти у греков, а вот наоборот, к сожалению, не бывает). Но прежде, чем мы начнем разговор о предыстории данного вопроса, сошлемся на поразительно схожий по постановке проблемы интерес, который существовал в нашем веке у русской философской школы: проблемы философии имени, числа, геометрии были в центре интересов А.Ф. Лосева и П.А. Флоренского, этих двух титанов, завершивших развитие классической мировой философии [94-98; 154], а философия становления (например, циклическая парадигма, используемая в рамках категории “становления”) формировалась также трудами П.А. Сорокина, Н.Д. Кондратьева и А.Л. Чижевского [6]. Кроме того и интересующие нас отдельные направления интерпретации Слова и Числа (например, герменевтика и математическая логика) в течение последнего века оставались в поле самого пристального интереса именно у философов, причем как на Западе, так и у нас [67].
Некоторые аспекты интересующей нас проблематики просматриваются в издаваемой сегодня научной литературе. С одной стороны, переиздаются многие работы по этой теме начала века, 20-х и 30-х годов [95; 98], например такая библиографическая редкость, как трактат “Число у Плотина”, и целая подборка (том VI — “Хаос и структура”) по диалектическим основам математики А.Ф. Лосева [97]. С другой — появляются фундаментальные работы по древневосточным нумерологическим моделям мироздания [41; 100-101], по китайскому учению о символах и числах [79; 82], аналитические и справочные работы по каббале чисел [69], эзотерическим и магическим символам [11; 44; 59] и т.д.
Принципиально новых работ интересующего нас интегративного и общеметодологического плана (синтез логик слова и числа) в рамках европейской традиции сегодня нет. Возможно, нас со временем порадуют неизвестные переводы, но это никак не вытекает из логики самой европейской науки: в ней нет потребности синтеза ее логики с иной, она пробует обойти эту проблему за счет развития математической логики, а не философии Числа.
Что касается нашего подхода, то мы себя причисляем к познавательной традиции сугубо русской, лосевской, и в чем-то евразийской — синтезирующей и Запад, и Восток, и рациональное, и иррациональное знание. Нам синтез нужен, который, кажется, больше никому особенно и не нужен.
* * *
Начало этого разветвленного процесса следует искать у самых истоков философии.
Родоначальником первой цельной (что очень важно в данном случае) и достаточно загадочной ветви научной философии был Пифагор. Текстов самого Пифагора не сохранилось, а чтобы составить представление о пифагорействе, требуется анализ множества косвенных "первоисточников", не всегда достоверных. Философское описание пифагорейского учения является более-менее полным только при обращении к работам Никомаха, Феона из Смирны, Прокла, Порфирия, Плутарха, Клемента Александрийского, Платона, Аристотеля и ряда других философов, использовавших пифагорейство в позднее время. Мы будем опираться только на те утверждения, которые встречаются либо чаще всего, либо закрепились в науке Нового времени как достоверные. Кстати, математический источник, признаваемый в этом качестве, — книга Томаса Тэйлора “Теоретическая арифметика”, особенно ее начальные главы.
Из современных нам фундаментальных работ можно привести громадный список мощных трудов А.Ф. Лосева (но мы ограничимся немногими), В.А. Асмуса [12], ряд философских монографий, посвященных истории этого вопроса (подробнее о них — во второй книге серии), а также работы о Пифагоре и его учении [29-30; 58; 79].
Именно у Пифагора мы находим то, что нас сейчас занимает: в его учении связывались арифметика, геометрия, музыка (акустика) и астрономия.
Первична среди данных способов отображения именно арифметика как философия Числа, ибо сама арифметика ни от чего не зависит, ее надо постулировать, это аксиоматическая данность (ее непременно дают людям то боги, то полумифические или мифические герои). Теория Числа у Пифагора выступает как метаклассификационная основа, приводящая в порядок весь универсум мысли.
Эта универсальная и первичная философия Числа получала хронотопическое отображение: геометрическое как пространственное — топос, волновое как временное — хроно (теория музыки, или акустика, описывала числовые ключи процессуальности). Геометрия и музыка (акустика) вторичны, производны от арифметики, это — два отображения Числа, ибо “все есть Число”. Здесь мы сталкиваемся с ракурсами статики и динамики, бытия и становления, в более узком смысле — симметрии и асимметрии, четности и нечетности. Но самое важное, что перед нами — хронотоп, где геометрия выступает как топическое, а теория музыки — как хроноотображение.
Синтезируется все вместе (арифметика, геометрия и теория музыки) в астрономии, хотя речь в пифагорействе идет совсем о другом — о философском отображении устройства космоса. Пифагорейская астрономия — это обратный синтез (почти по Гегелю), который восстанавливает реальность, проведя нас через дифференцированность Числа, пространства и времени. В астрономии сводились воедино и числовые ключи мироздания, и размер, и форма, и гармонические законы волнового движения небесных тел. В этой астрономии путем хронотопического раздвоения и последующего восстановления целостности в вещественном виде Число (как организующая информация, как разновидность Логоса) погружается в вещественность зримого мироздания.
Нам, знакомым только с нашей скучной школьной астрономией как факультативной частью столь же скучной школьной физики, трудно понять, что “астро-номию” можно воспринимать буквально как “звездный закон”, через который посвященному слышится музыка сфер, от которого можно получать наслаждение при созерцании божественных пропорций планетарных орбит и при помощи которого можно измерять свою судьбу Числом в рамках этого всеобщего звездного закона.
Немаловажное значение имеют последовательность, приоритеты и выводы из данного набора, который оказался явно не по зубам современным философам: в их работах сквозят растерянность и неспособность объяснить сам феномен существования и наличия именно четырех главных разделов пифагорейского учения [30]. Пифагорейство явно кажется наивным нашим историкам философии, хотя именно им нужно бы твердо усвоить, что первые в истории никогда не бывают наивными, они, скорее, отличаются способностью обгонять свое время, и очень-очень надолго.
Множественность и величина — две главные части математики, по Пифагору (они ограничены в его учении сферой ума). К этому системообразующему принципу нужно внимательно присмотреться, так как он напрямую выводит на более древние истоки его учения и прямо соотносится с самыми современными поисками математической логики.
Теория Числа имеет дело со множественностью, но со множественностью, относящейся к самой себе. А что это, если не наилучшее философское определение инвариантности? Отношение к самому себе есть закрытое, самозамкнутое отношение. В этом смысле оно обладает также константностью.
Музыка (или, точнее, пифагорейская теория гармонии) тоже имеет дело со множественностью, но уже со множественностью, относящейся к другим вещам, так сказать, направленной вовне. В пифагорействе речь идет отнюдь не о музыке, а об универсальном языке волновых колебаний, а говорить о колебаниях можно только по поводу чего-то (другого). Нетрудно понять, что волновые колебания не могут быть константными, они переменны по определению, это — изменяющиеся множества.
Геометрия обращается с постоянной величиной. Именно константность постоянных величин в геометрии стала причиной ее превращения в обособленную от философии геометрию Евклида (“землемерие”, унижающее столь высокое искусство, по Платону). В некотором смысле и геометрические объекты тоже инвариантны сами себе. Отметим реализм геометрии, у которой всегда можно найти вещественные прообразы. Если следовать Э. Гуссерлю, то “геометрии идеальностей предшествовало практическое искусство землемерия, которое ничего не знало об идеальностях” [131]. Платон же утверждал, что геометрии вредит ее название, по происхождению относимое к “землемерию”, оно унижает геометрию в смысле чистоты. Ему принадлежит высказывание, что геометрия есть познание всего сущего [29].
Астрономия обращается с изменяющейся величиной. Многое из того, что можно сказать о теории гармонии, применимо и к астрономии, но сама она имеет дело с конкретными и вполне реальными величинами.
Проведем простые аналогии. Хотя мы не будем пока особо комментировать образование исходных пар, нам кажется, что их сходство и так более или менее ясно. За таким свойствами, как константность и изменение, стоит знакомая нам пара “статика — динамика”. Константность как бы специально модифицирована в определениях для множественности (константность во множественности, относящейся к себе, есть число) и для единственности, имеющей величину (константность величин — тема геометрии). То же самое относительно изменчивости: изменчивость множественности описывает теория колебаний, а изменчивостью величин и расстояний озабочена астрономия.
Итак, первичная матрица:
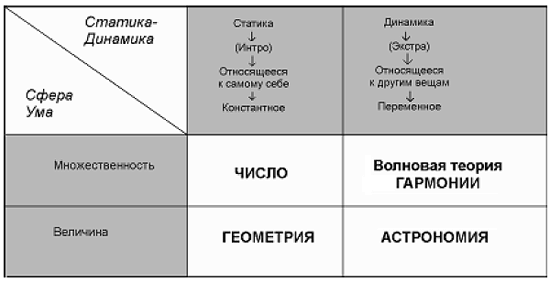
Рис. 1. Основной состав учения Пифагора.
Мы и впредь неоднократно будем наталкиваться на тот факт, что единство числовой, геометрической и динамической логики Пифагора не может быть обойдено при любых попытках синтеза знания. Сам феномен мы относим за счет того, что Пифагор, как основатель философии (по преданию, именно он придумал само слово “философия”), выявил ее истинный универсум типов отображения, и, как только мы ставим себе задачу полного синтеза, неизбежно приходим к нему. Это наводит на мысль, что если мы сегодня возвращаемся к родоначальнику философии, то, следовательно, сама ее история, если не кончается, то как минимум подводит очередные принципиальные итоги.
Все это замечательно и познавательно, мягко скажет всякий начитанный философ, но не слишком убедительно. Пусть у Пифагора и вправду систем отображения философского метасмысла — четыре. Но основанием европейской науки стала формальная логика Аристотеля, которой здесь нет. В ее основе лежит не Число, а понятие и Слово, специальным образом употребляемое для его удержания и обозначения. Это так, и ниже мы продемонстрируем глобальную ментальную необходимость такого выбора для судеб Европы: здесь и вправду “в начале было Слово”. Тем не менее философская система Аристотеля в свою очередь содержит редуцированное пифагорейство [30] и немало ему обязана.
Если же обратиться к тому сложному периоду, когда происходил ментальный выбор (Число или Слово), то в сам момент выбора ключа парадигмы не было практически ни одного крупного философа, который бы не обращался к идеям Пифагора, о нем так или иначе упоминают все, кто работал тогда в древнегреческой философии [12]. При выборе в качестве альтернативы Слова нужно было определиться, чем же тогда является Число в философии.
Платон первым предложил свое понимание роли Числа, которое и утвердилось в качестве основы. Числовые инварианты в платоновской традиции занимают некоторое промежуточное место между идеями и миром вещей. Можно представить это для наглядности в схеме:

Рис. 2. Место числа в философской конструкции Платона.
Эта схема интересна еще и тем, что метасмысл, тот самый, который обслуживается носителями смыслов, находится на том же уровне, что и мир идей у Платона, они во многом тождественны. Так что место Числа Платоном здесь указано как место канала связи, как место языка в коммуникации. Но и Слово (философский язык и применяемая в нем система понятий) имеет ту же функцию, что и Число: в понятиях мы точно так же фиксируем метасмыслы (идеи). Мир понятий является таким же проводником и посредником, как и Число. Через слова мы прорываемся к смыслам, отсюда — проблема всей европейской герменевтики после греков (до них герменевтика была принципиально иной). Кстати, и через Числа мы тоже прорываемся к смыслам, отчего мы разделили бы герменевтику на две глобальные разновидности: герменевтику Слова и герменевтику Числа (в чистом виде это — европейская и китайская ветви). Кстати, весь менеджмент построен именно на слове, и значение слова становится в социуме все больше (в этом ракурсе герменевтику в нашем веке развил Л. Витгенштейн). Другая сторона медали: в коммуникации появилось также и нейролингвистическое программирование (НЛП) наряду с прочими способами манипулирования человеческой психикой.
Из всех типов отображения вне времени (т.е. способных к отображению истины) находится и число, и слово. Чтобы поточнее определиться с их спецификой, введем их связанность по отношению к аксиологической и деятельностной четверке:
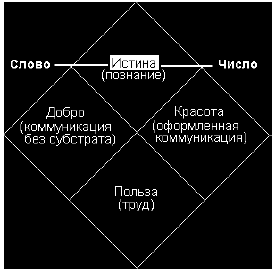
Рис. 3. Соотношение числа и слова в канале коммуникации социума.
Кроме свойства нести вневременные, онтологические значения и смыслы, отображать метасмысл число и слово “работают” во времени. Слово связано с организацией непосредственной коммуникации людей (истина — коммуникация), а число — с опосредованной коммуникацией, с формой, оформленностью, субстратностью (истина — форма). Непосредственная коммуникация есть несколько странная “деятельность без субстрата”, то есть, вообще-то, и не деятельность по определению, а аспект всякой субстратной деятельности. Число же привязано к субстрату, к форме, его употребление в настоящем времени есть, например, счет. Подумайте также вот над чем: Число — потенциальное (информация), а Слово — актуальное.
Часть1 доступна в формате PDF (5778Кб)
Часть2 доступна в формате PDF (6058Кб)
Часть3 доступна в формате PDF (7068Кб)
Н.Н. Александров, Числовые инварианты в менталитете // «Академия Тринитаризма», М.,
|
|